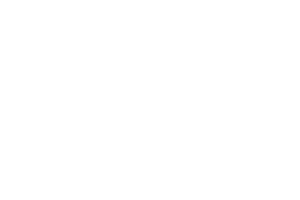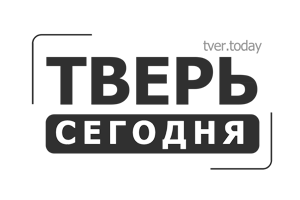Читатель Толстов: Москва в кино, чумазое Средневековье и очерки вдовы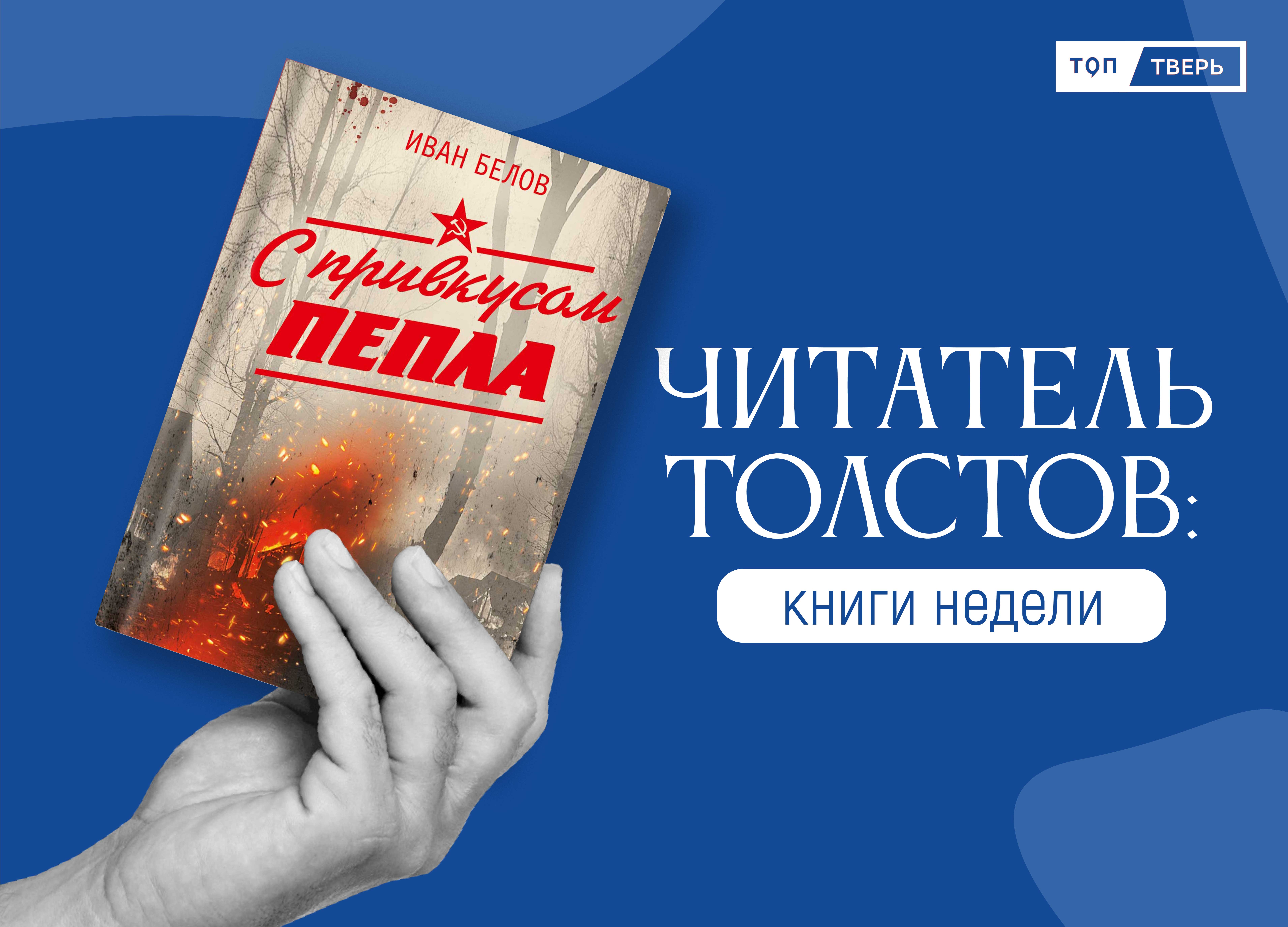 «Читатель Толстов» с воодушевлением встречает середину августа – ведь совсем скоро издатели вернутся из отпусков, и в книжных магазинах, и на маркетплейсах появится множество интереснейших книжных премьер. Впрочем, есть чем удивить и читателей сегодняшнего обзора – как всегда, есть что почитать. Изучайте, выбирайте, читайте! КНИГА НЕДЕЛИ Военной прозы у нас издается много – тем более в этот год, юбилей Победы. Но, пожалуй, впервые прочел очень серьезную прозу, действие которой происходит в партизанском отряде. 1942-й год, Брянская область. Офицер НКВД Зотов возвращается с задания со своей диверсионной группой. Его должны, по плану, отправить в Москву с лесного аэродрома. Но за два дня до назначенного срока немцы сбивают самолет, и центральный штаб партизанского движения временно запрещает все полеты. И теперь Зотову предстоит провести (непонятно, сколько времени – неделю, месяц) в лесу, на базе партизанского отряда «За Родину!». И тут начинается самое интересное. Кто-то убивает партизан, причем жертвами становятся люди далеко не последние в отряды. Погибает особист отряда, потом убивают лучшего партизанского разведчика. И Зотов, и командир отряда Марков понимают – в отряде находится немецкий агент, причем скорее всего не один. Весь отряд -132 человека, и требуется в самые кратчайшие сроки изобличить врага. Потому что немцы готовят карательную экспедицию, перебрасывают к границе леса карательные отряды. А с другой стороны давят «каминские», каратели из бригады Каминского, это такой вроде Власова у немцев был прислужник. Но детективная линия не так важна в романе (хотя до последнего момента нельзя угадать, кто же скрывается под личиной честного партизана). Потому что самое интересное – это повседневная жизнь партизан, описание их быта – как одеты, чем вооружены, чем питаются, как вообще выглядит день из жизни партизанского отряда. Прежде о таком не приходилось читать. Даже у Василя Быкова или Алеся Адамовича, писавшего о партизанах, собственно бытовые детали не прописывались, уводились на второй план. А «С привкусом пепла» Ивана Белова – это настоящая мини-энциклопедия партизанской жизни. И много интересных деталей. Например, как партизанские отряды «соревновались» друг с другом, у кого лучше поставлена служба. Командир «За Родину!» раздобыл где-то настоящую полевую кухню – и теперь его бойцы получают полноценное котловое питание, а вот в других отрядах пекут картошку на костре и мучаются от поносов… Там даже наш город упоминается: «Николай Степанович просил передать: в Твери отличная погода, с апреля дожди, – сообщил условленную фразу Зотов и замер, чуть покачиваясь на каблуках. Ответ все решит – отзыв или попытка захвата. Руку в кармане свело. – Пора привыкать, Тверь – край дождей и тумана, – по слогам проговорил гражданский и неуверенно улыбнулся. Зотов выдохнул. Фух. Свои. Неужели дошли?». Там после этого он достает из кармана взведенную гранату, которую держал на случай захвата, и все вокруг сильно по-разному себя ведут. И что еще заслуживает внимания – «С привкусом пепла» написан в такой традиционной манере советской военной прозы, там даже первая сцена такая же, как в «Повести о настоящем человеке», где диверсанты находят в лесу поле сражения, расстрелянный полевой госпиталь. Этот роман – хороший пример того, что у нас и сегодня есть авторы, умеющие бережно и тщательно работать с военной фактурой, тем более когда речь идет о таких малоизвестных (и малоизученных) страницах войны, как партизанское движение. Издательство «Астрель-Спб» – хорошее издательство, они все время издают такие незаметные, но важные шедевры жанровой прозы. Стараюсь внимательно следить за всеми их новинками. И роман Ивана Белова можно смело рекомендовать для чтения. Переиздание одной из самых громких (в смысле нашумевших, в 1987 году, когда вышел «Печальный детектив», этот роман вызвал серьезную полемику) книг Виктора Астафьева. Отставной оперативник Леонид Сошников живет в маленьком сибирском городе, приносит в местное издательство сборник своих рассказов. Рукопись одобрена, книга скоро выйдет. Вот только на душе Сошникова сплошная маета: он вспоминает свою службу в милиции, он очень обостренно переживает разные события, свидетелем или участником которых ему выпадает стать. Необычный герой для астафьевской прозы, отличающийся от его охотников, зимовщиков, рыбаков и солдат. Сошников – он одновременно и страдающий, и лирический, и какой-то неустроенный, что ли. Для середины 80-х такой герой совершенно не вписывался в галерею положительных персонажей советской литературы, и Астафьеву прилетело по шапке от критиков за его упаднические настроения. А вот сейчас понятно, что «Печальный детектив» – знаковое произведение, одно из тех, за которые мы и уважаем настоящую советскую прозу – сдержанная грусть, мысли о душевном огрублении русского народа, одна из тех книг, которые учили читателей смотреть в глаза истине. Еще одно переиздание, и снова писатель из Сибири. С прозой Ремизова у меня сложные отношения. Когда он пытается создавать большие повествовательные полотна, пишет романы, у него, на мой взгляд, это не очень получается. Хотя именно за романы – за «Вечную мерзлоту», за «Волю вольную» -Ремизов стал лауреатом «Большой книги» и «Книги года». Виктор Ремизов – певец Сибири, сибирских просторов, заповедных уголков России, в этом, как мне видится, его главная творческая миссия. Поэтому на меня поистине магическое действие оказывают его рассказы. Три года назад писал в «Читателе Толстове» о книга «Одинокое путешествие накануне зимы» (тоже выходила в «Альпина Прозе»). Там все действие в том, что герой идет, а потом плывет куда-то по таежной реке – и получаются страницы невероятной изобразительной мощи – как Пришвин, да, пожалуй, и лучше Пришвина. «Кетанда» – книга не новая, переиздание сборника рассказов о сибирских жителях (и не только о сибирских, география рассказов расширилась, да и сам Ремизов уже несколько лет как перебрался в Подмосковье). Простые истории о том, как они ходят на рыбалку, проводят свои дни, справляют нехитрую домашнюю работу, ссорятся, выпивают, хоронят близких, заботятся о соседях… У Виктора Ремизова (и это чувствуется) за плечами стоит мощная, глубокая, сложившаяся традиция советской сибирской прозы – Астафьев, Распутин – и рассказы у него временами похожи на притчи. Хороший он писатель, крепкий. В этом обзоре довольно много переизданий, но такова сегодня политика книжного рынка – издавать книги, которые неизвестны новому поколению читателей. Рейчел Карсон – американская журналистка, написавшая несколько книг, которые поистине перевернули представления человечества о живой природе. В 1950-е вышла ее книга «Молчаливая весна»: Карсон обнаружила, что в ее деревне перестали петь птицы. Начала выяснять – и оказалось, что виной всему пестицид ДДТ, который бездумно сыпали в землю как удобрение, убили всех насекомых, и как итоги вымерли все птицы. В итоге американское правительство запретило применение этого препарата в сельском хозяйстве – благодаря книге Карсон. «Океан вокруг нас» считается главной книгой писательницы, она вышла еще в 1951 году, и с тех пор многократно переиздается на разных языках. У нас последнее издание этой книги выходило еще, скорее всего, в советские времена. Рейчел Карсон обращает внимание на то, как человек меняет экосистемы Мирового океана – в том числе за счет истребления промысловых морских животных, загрязнением рек, несущих свои воды в океан, и многим неочевидными воздействиями (например, воздушные струи от пролетающих самолетов нарушают пути миграции птиц). Очень важная книга, одна из тех, после которых и появилось само понятие «экология». Это тоже переиздание – в определенном смысле знаковое. Мемуары Анны Лариной-Бухариной, вдовы Николая Бухарина, одного из высших партийных руководителей, ставших жертвой сталинских репрессий, бывшего главного редактора «Правды», в разгар перестройки печатали в «Огоньке», и тогда это было открытием. И открытием самой темы репрессий, а многие и вовсе узнали, что был у нас такой Бухарин, которого Ленин называл «любимцем партии», а Сталин потом умучил и поставил к стенке. А Анна Ларина вышла замуж за Бухарина, когда ей было 20, а ему 46, и успели они прожить вместе всего три года. Зато после казни Бухарина его жена провела в лагерях и ссылках четверть века, вышла на свободу только в 1961 году. И ее воспоминания считаются одним из важнейших свидетельств эпохи террора – потому что она многое запомнила, многое рассказала, и вообще ее книга представляет собой невероятно пронзительную исповедь женщины из высших эшелонов власти, низвергнутой в мрак и безысходность в статусе политической заключенной. Сегодня, когда мы уже куда больше знаем о той эпохе (и обнаруживаем все больше неоднозначных перекличек с более поздники временами), мемуары Анны Лариной-Бухариной читаются, конечно, с другим настроением. Хорошо, что эту книгу издали сейчас. «Незабываемое» – одна из главных мемуарных книг о советской истории, новому поколению читателей будет полезно с ней познакомиться. Это не переиздание, это первое издание на русском книги, которая на Западе вышла аж в 1972 году (и, кстати, это первая за долгое время книга Издательства Института Гайдара в обзоре «Читателя Толстова», сто лет о них не писал!). Британский социолог Станислав Андрески написал в свое время невероятно умную, провокационную и остроумную книгу, где попытался объяснить, что все социальные науки (политология, социология, психология) – не более чем этакая академическая магия, а ученые – они вроде колдунов. Потому что изучать отношения между людьми, между классами общества или разбираться в тайных мотивах поведения человека – это невозможно делать без подтасовок, манипуляций, ложных теорий и глубокомысленном объяснении пустоты, жонглировании несуществующими сущностями. Точные науки предполагают методику, эксперимент, опыты, доказательства, а что вы будете делать, когда очередной гуру объясняет вам, например, в чем заключается счастье? Андрески проводит яркие параллели между традиционными магическими практиками и современными социальными исследованиями, демонстрируя, как академический истеблишмент использует непонятный жаргон и методологические ритуалы для поддержания своего статуса, при этом часто не производя действительно полезного знания. Автор призывает к возвращению ясности мышления, четкости изложения и подлинно научного подхода в социальных науках. «Политолога трудно заставить признаться в ложности его мнения или совета, поскольку он всегда найдет какой-нибудь аргумент, снимающий с него вину за ошибку. В конце концов, даже в том случае, когда люди, действовавшие по его подсказке или на основе его диагноза, пришли к очевидной катастрофе, этим нельзя еще в полной мере доказать, что исход не был бы хуже, если бы был выбран иной порядок действий». Отлично. Сразу несколько книг в нынешнем обзоре этакого «ностальгического» жанра. Вот сборник очерков Марии Тереховой, вышел в замечательной серии «Библиотека журнала «Теория моды» – там всегда много интересных новинок по истории костюма, про моду, про телесные практики, крайне интересно, стараюсь не пропускать. В этот раз главная тема – обувь, как обувь изменялась на протяжении советской эпохи, что носили граждане Советского Союза. Много интересного. Девушки 30-х годов, например, не имели выбора (его в стране не было), носили резиновые боты. После войны появились модные женские туфли, которые привозили из Европы, но вообще состояние нашей обувной промышленности оставалось крайне удручающим на протяжении всей советской эпохи. Кто не помнит войлочных ботинок «прощай, молодость», в которых ходили и школьники, и молодые специалисты. А как вам сюжет о том, как отечественные фабрики пытались наладить выпуск женских «сапог-чулок», и чем это закончилось? Не менее важны для исследования и голоса их владельцев: воспоминания, дневники и письма очевидцев разных исторических эпох. Мы носим обувь, а она практически носит нас, и вместе мы входим в историю. Еще одна книга, вдохновленная советской ностальгией – только вышла она в серии «Культура повседневности». Что такое обладать собственным персональным автомобилем в советские годы – об этом знают только те, кто пережил такое счастье. Между тем автомобильная история СССР прежде всего создавалась под военные автомобили, под большегрузные машины, под карьерные самосвалы. Выпускать легковые автомобили для населения стали далеко не сразу – после того, как в Политбюро огласили статистику, что в Америке автомобили имеют 700 семей из тысячи, а у нас – только две. Да и само владение автомобилем было тем еще подвигом. Помимо собственно факта владения автомобилем, нужно было еще хлопотать о гараже, заводить нужные связи, чтобы достать дефицитные запчасти (советские автоконцерны выпускали автомобили, но запчастей не производили, считалось, что наши машины ломаться не могут). И опять же обращаемся к советскому кино, где жизнь советских автомобилистов отражена в гротескных, причудливых, но в целом вполне жизненных ситуациях – от «Берегись автомобиля» до «Гаража», от «Инспектора ГАИ» до «Полетов во сне и наяву» (там, если помните, главный герой снимает девушек, подкатывая к ним на белых «жигулях», которые он водит по доверенности от своей коллеги – и любовницы). В этой книге подробно рассмотрены все этапы российской и советской автомобильной истории — и, конечно, марки машин, которые знали все: от опытного «НАМИ-1» и элитного «ЗИМа» до демократичного «Запорожца» и революционных «Жигулей». Хороший сборник историй о легендарных советских фильмах, от «Москва слезами не верит» до «Джентльменов удачи» – какие актеры могли в них сыграть, но не сыграли по разным причинам (Ивана Грозного в фильме Гайдая мог сыграть Юрий Никулин, представляете?), в каких местах Москвы проходили съемки – это особенно важно, потому что эти места попали в кадр. И вообще много-много мелких, но примечательных деталей. Как в «Джентльменах удачи» во время съемки сцены в цистерне с цементом Савелий Крамаров наотрез отказался лезть в цистерну, поскольку страдал клаустрофобией – и всю сцену снимали в павильоне. Или как из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» вырезали ответ царя на вопрос, где он живет (первоначально царь отвечал – «Москва. Кремль», переозвучили и получилось – «В палатах»). Каждый советский фильм проходил мелкий фильтр цензурных запретов, согласований, на съемках происходили разные курьезные случаи, актеры отказывались от, казалось бы выгодных ролей (любовника главной героини в «Москва слезам не верит уже согласился играть Вячеслав Тихонов, потом отказался, сыграл Олег Табаков). После знаменитой биографии Высоцкого в серии «ЖЗЛ», написанной Владимиром Новиковым (и выдержавшей с десяток переизданий и допечаток) сказать что-то новое о Высоцком сложно. Впрочем, Антон ОрехЪ и не ставит такую задачу. Он несколько лет делал программу «Один Высоцкий» о жизни и творчестве Владимира Семёновича на радиостанции «Эхо Москвы» и понял, что тема эта неисчерпаема. Поэтому пошел иным путем – составил фотоальбом, который, как предупреждает автор, не претендует на энциклопедичность и всеохватность. Автор постарался пройти по всем основным вехам и самым важным моментам в жизни Высоцкого, вспомнить близких для него людей, его детство, ранние песни, с которых все начиналось. Серьезное место уделено работе героя книги в театре на Таганке. И главное достоинство книги – в ней собраны редкие фотографии не только самого Высоцкого, но и людей, с которыми он общался в жизни. Само собой, следует доверять самому Антону Ореху – он много лет изучает жизнь этого человека, и, безусловно, с точки зрения достоверности жизнеописания Владимира Высоцкого к книге нельзя предъявить никаких претензий. Насколько я понимаю, это первое такое полноценное издание о Высоцком, с огромным количеством фотографий. Книга вышла в популярной серии «Новейшие исследования отечественной истории», и написал ее кандидат исторических наук Владимир Гурьев. Историю столичной правоохранительной системы он отсчитывает с 1722 года. Впервые городская полиция была создана в 1718 году в Санкт-Петербурге, и скорее всего, по предположению автора, на это повлиял опыт Франции, где незадолго до этого побывал Петр Великий. А 19 января 1722 года Петр подписал указ «О бытии в Москве обер-полицмейстеру». Монография Владимира Гурьева – чтение исключительно научное. Опираясь на множество источников, в том числе архивных, автор показывает особенности строительства правоохранительной системы. Как осуществлялся надзор за порядком, какие люди и откуда попадали в полицию, какие у них были льготы, зарплаты, пенсии. Как полицейские взаимодействовали с гражданами, и чем была вызвана многолетняя вражда полицейского ведомства с корпусом жандармов. Очень важный момент: впервые в научной литературе исследуется социальный состав и особенности служебной деятельности сотрудников московских правоохранительных органов. Нет смысла представлять английского историка Гарольда Лэмба – «Читатель Толстов» пишет о его книгах постоянно. Сам Лэмб покинул этот мир более 70 лет назад, однако его биографии исторических личностей остаются актуальными по сей день и активно переиздаются. Они написаны в такой легкой, несколько даже приключенческой форме – но и героев для своих книг Лэмб выбирал с биографиями, скажем так, занимательными (Чингисхан, Атилла, Александр Македонский). Феодора – не самая известная в галерее исторических персонажей. Она была правительницей Византийской империи в середине VI века, и сам факт присутствия женщины на троне в те времена – случай уникальный. Она была циркачкой, дочерью пастуха, принявшую императорскую власть из рук бездетного мужа, императора Юстиниана. И 22 года правила государством, причем сохранилась ее дипломатическая переписка, сохранились монастыри для проституток и бродячих артисток, которые она строила (причем втайне, выделяя деньги из собственных средств). Она пережила чуму, покушения, несколько крупных восстаний. Она назначала и свергала военачальников, сама сочиняла законы. Она причислена к лику святых в христианской церкви! И вообще Феодора, безусловно, заслуживает внимания такого классного автора исторических жизнеописаний, как Гарольд Лэмб. Американец Дэниел Киз пишет романы о людях, страдающих самыми экзотическими психическими аномалиями (вспомним хотя бы его бестселлер «Цветы для Элджерона»). И «Пятая Салли» рассказывает о Салли Портер, официантке из Нью-Йорка, страдающей синдромом расщепления личности. В ней живет сразу пять субличностей, причем каждая не догадывается о существовании другой. Кроме самой Салли, конечно, которая становится то образованной эстеткой и галеристкой Нолой, то тусовщицей и любительницей вечеринок Беллой, то депрессивной и обозленной на весь мир Джинкс, мечтающей кого-нибудь убить (и не исключено, что уже убившей). Единственная, на кого Салли может положиться – это пятая субличность Дерри, добродушная и сочувствующая девушка, служащая своего рода модератором всего, что творится в голове Салли Портер. Дэниел Киз в начале книги специально предупреждает, что для сбора материалов к роману несколько лет изучал случаи расщепления личности, с точки зрения медицины все в романе соблюдено. А с реальными людьми совпадений нет. Так что можно предаться чтению и следить за тем, как устроено сознание не только главной героини, но и воображение самого автора. Новый роман Татьяны Замировской, белорусской писательницы и журналистки, в России у нее вышли уже несколько книг – «Смерти.net», сборники «Земля случайных чисел» и «Воробьиная река». «Свечи Апокалипсиса» – это не роман, конечно. Когда-то Татьяна Замировская работала в одном из самых культовых магазинчиков в Нью-Йорке, где продают свечи авторской работы – не для того, чтобы их возжигать, а своего рода маленькие скульптуры из воска. Сначала Татьяна работала продавцом, потом стала менеджером. И все это время она вела дневник, где записывала, какие покупатели приходят в ее магазинчик, как они себя ведут, что спрашивают, вообще насколько интересна эта социальная группа покупателей дорогих свечей (а может, и не покупателей – в такие магазины многие заходят просто поглазеть). Получился такой остроумный парафраз «Круглосуточного магазина господина Пенумбры» Роба Слоуна или «Дневника книготорговца» Шона Бейтела – там тоже про разных фриков, которые ходят по магазинам, только по книжным. Татьяна Замировская написала очень смешную, светлую и полную исключительной симпатии к человеческим странностям и слабостям историю человека по ту сторону прилавка. Читается как учебник терпимости и доброжелательного любопытства, как захватывающая производственная драма, как остроумная и точная энциклопедия типажей, быта и нравов. Ах, «век осьмнадцатый», эпоха Просвещения, «галантный век» – сколько эпитетов сочинили для самой, пожалуй, эстетически изысканной эпохи в отечественной истории. Историк Олег Островский взялся за серьезную задачу: показать, какое место в культурной жизни того времени занимал собственно Санкт-Петербург, столица Российской империи. Собственно, не надо объяснять, что кроме столицы других крупных очагов культуры в том столетии в нашей стране и не существовало. А вот как этот процесс происходил именно в Санкт-Петербурге? Начиная с Петра, который сделал его новой столицей империи и постепенно «европеизировал» и собственные представления о прекрасном, и вкусы своего окружения (многие художественные промыслы вроде производства фарфора или декоративной керамики при Петре и появились). Потом – правление Елизаветы, расцвет «русского барокко» и «нарышкинского рокок», недолгое царствование Петра III, и настоящий культурный взрыв при Екатерине Великой. Поэзия, архитектура, живопись, литература, философия, графика, скульптура, устройство садов и многое другое. Казалось бы, каждый человек примерно представляет себе эту культурную эволюцию, но прочесть об этом толковую монографию, где рассказывается, что за чем появлялось и кто был конкретным автором того или иного шедевра – безусловно, познавательно. Совсем недавно «Читатель Толстов» писал о других книгах историка и исследовательницы средневековой эпохи Екатерины Мишаненковой «Кухня Средневековья» и «Блудливое Средневековье». Вокруг Средневековья, утверждает автор, клубится множество мифов, в том числе мифов гигиенических. Якобы рыцари в Средние века никогда не мылись, считая мыло душистое и полотенце пушистое личными врагами. А некоторые монархи и вовсе мылись дважды в жизни – первый раз при рождении и второй, когда их омывали на смертном одре. На самом деле все, конечно, было иначе, говорит Екатерина Мишаненкова и приводит множество примеров. Даже не столько примеров, сколько описывает бытовые ритуалы, существовавшие в те времена. Скажем, особенности куртуазной любви. Вы представляете себе рыцаря, который вперся бы в спальню своей прекрасной дамы, источая вокруг душный запах пота? А много ли клиентов было бы у цирюльника, который пользовался бы заросшим грязью инструментом? Конечно, многие телесные и гигиенические практики, существовавшие тогда, могут вогнать современного человека в ступор (одна теория миазмов чего стоит), но с гигиеной у людей Средневековья было, в общем, не совсем так, как гласит молва. К тому же сложность поиска конкретных сведений о средневековой гигиене (об этом в источниках писали очень скупо) говорит о том, что для людей, живших тогда, не существовало подобной проблемы. Книга известного востоковеда Михаила Вогмана выходит в популярной «мифологической» серии, посвященной мифам и легендам разных эпох и народов. Древнееврейские мифы, представления о жизни евреев в архаические, добиблейские времена – почти загадка, потому что еврейская цивилизация той эпохи оказалась как бы «в тени» новозаветных мифов. Михаил Вогман буквально по крупицам собрал сведения и представил максимально полную картину мира, на которой держалось еврейское общество до оформления монотеистической религии. Сам автор признается, что для него знакомство с еврейской цивилизацией — с раввинистической Аггадой и с хасидскими преданиями — открыло совершенно иное представление о том, что такое миф. Эти тексты в более поздние времена использовались с иными целями – пропаганды единобожия, и от этого мифологические мотивы, утверждает автор, приобрели новую пластичность, звучали как новое парадоксальное открытие, вспарывающее саму природу мифического. Эта книга не столько сборник тех или иных мифов, сколько приглашение к размышлению о том, что такое миф вообще (и «еврейский миф» в частности), и какие альтернативные взгляды на него могут существовать. Время от времени у нас выходят книги, посвященные послевоенной истории Западной Германии – как правило, западных же авторов. Когда-то я писал в «Читателе» о книге Флориана Хубера «За дверью поджидают призраки» – великолепном исследовании драмы немецких семей, которые после войны ожидали возвращения своих мужчин, сгинувших на фронте, или вынуждены были вести двойную жизнь, чтобы скрыть от властей и соседей причастность членов семьи к нацистской партии, или просто переживали кромешные психологические проблемы, посттравматический синдром, растянувшийся в некоторых случаях на десятилетия. Денацификация, которую прошло послевоенное немецкое общество, оказалась не менее тяжелым испытанием, чем сама война. Николай Власов написал, пожалуй, первое такое исследование с точки зрения отечественного историка, сделав акцент не только на денацификации, сколько на том, каким образом западным немцам, пережившим коллективный опыт нацистской диктатуры удалось построить работающую демократию (впрочем, насчет демократии у нас есть вопросы, учитывая обстоятельства немецкой политики последних лет). Автор рассказывает, что представляло собой послевоенное германское общество, как оно менялось и какие события на это повлияли. Как случилось, что цивилизованная нация за 30 лет развязала две мировые войны и докатилась до нацистского варварства? Смогут ли немцы исправиться, стать свободными, будут ли безопасны для соседей — или навеки обречены идти своим «особым путем», выбирать диктаторов, развязывать конфликты? Такими вопросами задавались европейцы и американцы в середине 1940-х годов. Как произошла трансформация целой нации? На этот вопрос и отвечает Николай Власов в своей книге. |
|
|
|
|
|
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:
|
Опубликовано 29 минут назад
|
|
Опубликовано сегодня в 11:49
|
|
Опубликовано сегодня в 11:51
|
|
Опубликовано сегодня в 11:39
|
|
Опубликовано сегодня в 11:42
|
|
Опубликовано сегодня в 11:34
|
|
Опубликовано сегодня в 09:27
|
|
Опубликовано сегодня в 09:34
|
|
Опубликовано сегодня в 09:45
|
|
Опубликовано сегодня в 10:09
|
|
Опубликовано сегодня в 10:16
|
|
Опубликовано сегодня в 10:42
|
|
Опубликовано сегодня в 09:18
|
|
Опубликовано сегодня в 09:36
|
|
Опубликовано сегодня в 10:14
|
|
Опубликовано сегодня в 08:42
|
|
Опубликовано сегодня в 07:00
|
|
Опубликовано сегодня в 07:15
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
13.08.2025 в 16:29, просмотров 231
13.08.2025 в 17:30, просмотров 207
13.08.2025 в 13:33, просмотров 201
13.08.2025 в 14:34, просмотров 189
13.08.2025 в 16:47, просмотров 186
13.08.2025 в 14:36, просмотров 184
13.08.2025 в 20:02, просмотров 164
13.08.2025 в 18:35, просмотров 160
13.08.2025 в 15:58, просмотров 155
вчера в 14:24, просмотров 144
вчера в 06:42, просмотров 137
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|